Трудности перевода. Павел Палажченко
Опубликовано на Финам.FM
МЕДВЕДЕВ: Добрый вечер. В студии Сергей Медведев, вторник, «Археология человека». И я хочу поговорить о коллегах. В каком смысле о коллегах? Люди, которые существуют в качестве голоса, голос которых мы слышим, но которых мы очень часто не видим, своего рода люди-невидимки. Ну, с одной стороны, это мы, радиоведущие, с другой стороны, это те люди, которых вы часто слышите на конференциях, семинарах, когда смотрите какое-то заграничное кино – это переводчики, переводчики-синхронисты. Существующие как бы за рамками текста, за рамками кадра, скажем, на конференциях, на различных международных конгрессах, сидящие в специально оборудованных кабинках, которые немножко презрительно называются будками. Так что, вот эти люди-невидимки, собственно, кто они? Как становятся синхронными переводчиками, что такое синхронный перевод с точки зрения, не знаю, особой организации мозга?
Хотим поговорить об этом с нашим гостем, который, в отличие от многих своих коллег, был достаточно заметен. Ну и, собственно, сейчас по-прежнему заметен, но, по крайней мере, был практически каждый день на экранах телевизоров, поскольку это был переводчик Михаила Сергеевича Горбачева. Это Павел Палажченко. Добрый вечер, Павел.
ПАЛАЖЧЕНКО: Добрый вечер.
МЕДВЕДЕВ: И, собственно, я думаю, многие наши слушатели вырастали в 80-е годы, ну, собственно, и затем уже, когда Горбачев свою общественную деятельность развернул уже в отставке. Все эти переговоры о разоружениях с Рейганом – всегда рядом с президентами, немножко в тени, немножко за спиной стоял невысокий крепкий человек с усами. Это переводчик Павел Палажченко.
Я хочу вас спросить, Павел, собственно, переводчик должен оставаться невидимым, максимально невидимым?
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну, желательно, чтобы не очень видимым. Протокольщики даже просили иногда отойти, для того чтобы можно было сделать кадры, где президенты общаются как бы без их помощи, такие постановочные снимки. Но есть постановочные снимки, а есть снимки живые, и живые снимки – это снимки, где переводчику трудно остаться за кадром. И поэтому, наверное, так получилось, что, начиная с Женевы, потом Рейкьявик, Москва, Мальта, Вашингтон, на всех этих саммитах я часто попадал в кадр. Переводчик нужен, поэтому он попадает все-таки в кадр.
МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, я даже скажу, что те кадры, на которых виден переводчик, они какое-то ощущение спокойствия и уверенности оставляют, что вот эти два человека, на которых сфокусировано все наше внимание, все наши надежды, они не одни, есть некий толмач между ними, есть человек, который обеспечит им коммуникацию. То, что вот раньше Суходрев был на фотографиях с Брежневым, то, что вот вы на фотографиях с Горбачевым. Все в порядке, этот человек не даст случиться плохому. Какое-то вот такое ощущение.
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну, вообще в международных отношениях, в международном общении очень много все-таки подушек безопасности и слоев, которые не дают случиться плохому, даже если что-то пошло не туда. Это не только, конечно, переводчики, это весь аппарат помощников, экспертов, мидовцев. С другой стороны, конечно, бывают случаи, когда главы государств остаются один на один. Здесь главная ответственность, конечно, на них, 99% ответственности на них. Какой-то 1% ответственности, конечно, и на переводчиках.
Переводчики с обеих сторон, как правило, за редкими исключениями бывают случаи, когда переводчик только с одной стороны. Ну, скажем, на переговорах с Радживом Ганди, премьер-министром Индии переводил я, потому что переводчик с индийской стороны, там для протокольного перевода он достаточно хорошо знал русский язык, а дальше ему уже было трудно.
Переводишь обычно... На дипломатических переводах всегда переводишь с русского на английский, другая сторона переводит с английского на русский. Переводишь своего на иностранный язык, в отличие от традиции синхронного перевода, где наоборот. В международных организациях, наоборот, ты переводишь только на язык «А», язык «А» – это твой родной язык. В дипломатических переводах обратная картина – там ты переводишь своего на иностранный язык.
МЕДВЕДЕВ: Важнее понять своего.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно. Ты – член команды, ты знаешь, о чем пойдет речь. Переводчиков, как правило, даже если они не являются действующими дипломатами, в Соединенных Штатах там отдельная лингвистическая служба внутри госдепартамента, они являются сотрудниками иностранной службы, но они не являются, собственно дипломатами. Так вот, даже если он не дипломат, переводчиков, конечно, стараются хорошо информировать о том, что будет говориться, какие позиции страна занимает и так далее.
Поэтому переводишь своего на иностранный язык. Какие-то шероховатости, связанные с тем, что этот иностранный язык может быть и не родным, хотя у многих он родной, люди двуязычные, билингвы, какие-то шероховатости, они все-таки компенсируются тем, что ты точно понимаешь своего президента, своего оратора и переводишь его во всеоружии, если можно так сказать.
И вот наличие двух переводчиков... Да, я думаю, что вы правы, в какой-то мере это действительно создает ощущение и спокойствия, и комфорта, в том числе и участников беседы.
МЕДВЕДЕВ: Но иногда есть какие-то выражения, которые невозможно, наверное, сразу довести. Меня всегда очень интересовало, как перевели хрущевское: «Мы вам покажем кузькину мать». То, что в ООН было.
ПАЛАЖЧЕНКО: Я не помню, в каких обстоятельствах это было сказано. Если это было в ООН, то это, очевидно, переводилось синхронно, и, как правило, такие вещи переводятся либо дословно, либо путем подбора аналога. Дословно здесь, конечно, перевести невозможно, а аналог вполне возможен.
Нам иногда кажется, что какие-то очень яркие русские выражения не имеют аналогов. Они имеют, как правило, аналоги. Другое дело, что аналог по-своему опасен. Потому что, если, скажем, вы подбираете аналог какой-то метафоры, и этот аналог упоминает не то животное, не того зверя, который упоминается в русском выражении, то может начаться какая-то пикировка, какие-то ассоциации, связанные с животными, зверями, растениями, которые не упоминались оратором. Так что, здесь опасность есть.
Виктор Михайлович Суходрев, которого вы упомянули, как правило, предпочитал дословный перевод. «Как у нас говорят...» – и дословный перевод. Если нужно, этот дословный перевод в устном переводе может снабжаться небольшим комментарием, это возможно.
МЕДВЕДЕВ: Ну да, «как у нас говорят», сразу идиоматичность предлагая, вот такое выражение.
ПАЛАЖЧЕНКО: Да, да. Так что выход, как правило, у переводчика есть. Вот интересно, буквально на днях на одном переводческом форуме, ну, собственно, на переводческом форуме моего сайта у меня спросили: «Как вы переводите «чем дальше в лес, тем больше дров»?» И привели четыре перевода, предлагаемых варианта перевода из словаря «ABBYY Lingvo». Ну, «ABBYY Lingvo» хороший словарь, но все эти четыре варианта – два дословных и два аналога мне показались неудовлетворительными.
Но самое интересное, я сказал, что вопрос «как вы переводите» звучит не совсем корректно, потому что за 43 года переводческой практики мне ни разу это выражение в реальной практике не встретилось. Но, конечно, я бы вышел из положения, я в этом уверен.
МЕДВЕДЕВ: Ваш вариант какой?
ПАЛАЖЧЕНКО: Мой вариант это все-таки аналог без леса и без дров, потому что все-таки дрова здесь употребляются совершенно не в том значении. И дословный перевод, который давался в словаре «ABBYY Lingvo», который звучит примерно так: «Чем больше ты углубляешься в лес, тем гуще этот лес». Это совсем не то, дело не в том, что гуще этот лес. По сути, это надо перевести аналогом, который звучит примерно так: «Чем больше ты во что-то втягиваешься, тем больше проблем». И это можно сказать по-английски, причем можно сказать идиоматично и не так сухо, как «чем больше проблем». Гораздо интереснее и идиоматичнее, так, что другая сторона почувствует, что сказано нечто оригинальное.
МЕДВЕДЕВ: Ну, вот да, мы, интересно, уже вышли на эту тему, я думаю, мы к ней еще вернемся. Но вы уже упомянули «ABBYY Lingvo» и все эти наши словари-переводчики, машинный перевод. Мне кажется, это те вещи, в которые даже если заложена первичная идиома «чем дальше в лес, тем больше дров», а если кто-то скажет: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны»? Вот тут уже машина, по-моему, сломается любая, потому что она не прочтет иронию, заложенную.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно. И вообще, «чем дальше в лес, тем толще партизаны» – это то, что говорит человек, который говорит явно не под перевод, но который рассчитывает, что ты дашь что-то функционально близкое и саркастическое и так далее. Все-таки, как правило, люди в контексте международного общения, что называется, говорят под перевод. Они учитывают, что их переводят, и не злоупотребляют подобного рода вещами.
Хотя иногда что-то подобное может встретиться. Знаменитая фраза «Аллах над нами, козлы под нами», сказанная в одной из бесед в 2000 годы главой нашего государства. Но все-таки это нечасто бывает. В основном, конечно, учитывается то, что человек переводит. Но, повторяю, переводчик должен выкрутиться в любой ситуации, понимая, что нередко в таких случаях приходится идти на компромисс.
Что касается вот этих электронных средств, то ведь «ABBYY Lingvo» это не машинный перевод, «ABBYY Lingvo» это очень хороший словарь, являющийся электронным помощником переводчика. Таких возможностей в те годы, когда мы учились, не было даже ничего близкого. А сейчас вы на компьютере смотрите текст, подводите курсор, если у вас есть программа «ABBYY Lingvo» – подводите курсор к определенному слову и сразу дается словарный вариант. Не перевод, конечно, это не перевод, но, тем не менее, словарный эквивалент, словарный вариант вам предлагается.
МЕДВЕДЕВ: Ну, даже в «Google» это уже встроено.
ПАЛАЖЧЕНКО: В «Google» это встроено. И это, конечно, колоссальный шаг вперед, хотя от машинного перевода, качественного машинного перевода это, конечно, очень далеко. Ну, об этом можно отдельно поговорить, возможен ли вообще качественный машинный перевод естественных текстов. Это вопрос.
***
МЕДВЕДЕВ: Ну, вот говоря сейчас о синхроне, о синхронном переводе. Нужен какой-то особый склад ума, особый склад мышления? Вот я, готовясь к нашему эфиру, прочитал очень интересную книгу Геннадия Мирама «Профессия: Переводчик», и там вообще целая глава есть под названием «Синхронист – это психофизиологическая аномалия».
Я поясню. Мне одному однажды в жизни довелось заниматься синхронным переводом. Я, в общем-то, считаю, что, ну, по крайней мере, в своей профессиональной сфере достаточно знаю английский язык, больше 20 лет с ним работаю, преподаю на нем, пишу тексты и даже думаю на английском. И однажды мне пришлось на довольно высокопоставленном семинаре, который я вел, там случилась какая-то заминка и не пришла смена переводчиков, а семинар идет. И я сел в вашу так называемую будку. Знаю, как там нажимается кнопка, нажал кнопку. Вы знаете, я скажу, что я справился, но из моего жизненного экспириенса всего, это самые сложные 30 минут в жизни, когда я чувствовал, как мозги лезут наружу. Рубашку пришлось выжать. Ну, отсутствие привычки.
Самое главное, я пытаюсь понять, как можно буферизовать, набрать в голову... По двум контурам вроде как голова работает: один контур – это ты переводишь, а другой контур в голове запоминает те слова, которые были сказаны.
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну, тут по пунктам надо взять. Во-первых, почему для вас это было так тяжело. Просто потому, что пришлось это делать без всякой подготовки. Учитывая ваш жизненный лингвистический опыт, то, что в каких-то отношениях вы билингв, для вас достаточно было бы, мне кажется, одной-двух недель занятий, и вы могли бы заниматься переводом, во всяком случае, на родной, на русский язык без особого труда. Да и на английский тоже.
МЕДВЕДЕВ: Но там на английский, должен сказать, шел перевод.
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну, это, может быть, немножко сложнее. Хотя у нас как-то так получилось, что традиционно наши русские синхронные переводчики с большим трудом переводят с английского на русский, чем с русского на английский. Не всегда есть достаточное понимание текста, достаточное погружение в английский контекст и так далее.
Второй пункт – насчет психофизиологического типа, и является ли синхронный переводчик психофизиологической аномалией. Я немножко знаю Геннадия Эдуардовича Мирама, он киевский переводчик, переводчик известный. Но вот здесь позволю себе не согласиться. Среди моих коллег есть люди самых разных психологических и психофизиологических типов. Есть люди чрезвычайно энергичные, очень с большой, как сейчас говорят, энергетикой, но я не очень люблю это слово, но вот такого активного типа во всем.
Мой первый начальник Андрей Дмитриев, который потом сделал дипломатическую карьеру, был послом России на Кубе, в Никарагуа, в других странах, вот это человек такого типа. Другой коллега, которого я тоже очень люблю, флегматичный Саша Журавлев, который абсолютно не подходит под первый тип. И оба прекрасно работали, один из них работает до сих пор. Конечно, в слегка разном стиле, и, тем не менее, оба работали успешно, и уж коммуникативную задачу выполняли полностью.
МЕДВЕДЕВ: Но ситуация стрессовая в целом?
ПАЛАЖЧЕНКО: Ситуация стрессовая, пока учишься. В стрессовой ситуации постоянно работать... Ведь есть переводчики штатные, которые каждый день это делают. Я – переводчик-фрилансер, я это делаю не каждый день, хотя у меня бывают месяцы, когда я работаю практически каждый рабочий день. Так вот, постоянно быть штатным переводчиком и работать в режиме постоянного стресса, ну, не хватит никаких ресурсов организма. Поэтому я не считаю, что это работа для профессионала стрессовая.
Никто статистики не ведет, может к счастью, может, к сожалению, но у меня такое впечатление, что продолжительность жизни синхронных переводчиков примерно такая же, как в среднем по стране. Может быть, у нас и побольше даже, чем в среднем по стране. Я вот всех знаю, все работают, в Европе до 65-70 лет работают обычно, и потом еще прекрасно живут, все в порядке.
МЕДВЕДЕВ: Думаю, Альцгеймер точно не грозит, учитывая загрузки.
ПАЛАЖЧЕНКО: Думаю, что нет. Ну, конечно, к концу дня, если ты отработал ооновскую норму так называемую – два заседания вдвоем по три часа каждое заседание, это три часа чистой работы, к концу дня устаешь, конечно.
МЕДВЕДЕВ: Полчаса через полчаса вы работаете?
ПАЛАЖЧЕНКО: Полчаса и полчаса, обычно так, да. В Совете Европы, там чудовищные темпы, потому что там регламент в выступлениях три минуты, в Совете Европы мы иногда работаем по 20 минут, меняем друг друга каждые 20 минут.
МЕДВЕДЕВ: А большие организации международные – ООН, Совет Европы, там что, с какого-то релейного языка одного берется? Ведь невозможно, скажем, в ООН иметь... Это сколько, 150 в квадрате пар переводчиков.
ПАЛАЖЧЕНКО: Нет, почему? В ООН всего шесть официальных языков, и поэтому... В ООН – шесть, в Совете Европы тоже шесть, только другой народ.
МЕДВЕДЕВ: Только главы выступают, по-моему, имеют право...
ПАЛАЖЧЕНКО: Почему?
МЕДВЕДЕВ: Нет? Главы государств тоже на одном из шести языков?
ПАЛАЖЧЕНКО: В ООН, на Генеральной ассамблее, в Совете безопасности, во всех комитетах Генеральной ассамблеи на одном из шести языков: на китайском, английском, русском, французском, испанском и арабском. В Совете Европы тоже шесть языков, но другой набор: английский, французский, итальянский, немецкий, русский. Можно выступать и на других языках, но тогда делегация предоставляет своего переводчика, который переводит на стержневой язык, обычно это английский или французский. В кабинах тоже обычно стараются поддерживать такой набор, чтобы переводчики не слишком работали с реле.
У меня, например, рабочие языки: английский, французский, испанский. Если мой коллега, а такие коллеги есть, имеет, допустим, набор – английский, немецкий, итальянский, то в кабине полный набор, никто с реле не работает. В английской кабине, как правило, поддерживается такое сочетание, потому что английская кабина стержневая. Если у меня нет итальянского языка и в кабине нет моего коллеги, то я беру с английского. Поэтому в английской кабине англичане работают меньше, потому что 60% выступлений на английском языке, но их ответственность велика, потому что, как правило, реле берут с них. Кабина-пилот очень часто именно английская кабина. Поэтому вот так поддерживается это все.
Ну, конечно, не 150 языков. Формально в Европейском союзе все 24, если я не ошибаюсь, языка считаются официальными, но это не на всех мероприятиях, а только на самых важных.
МЕДВЕДЕВ: А когда большое мероприятие, то как, на стержневые переводят?
ПАЛАЖЧЕНКО: Когда больше мероприятие, стараются поддерживать соответствующее соотношение в английской кабине.
МЕДВЕДЕВ: Но там же это важно, чтобы глава государства выступил на своем национальном языке.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно, безусловно.
МЕДВЕДЕВ: Это вопрос суверенитета.
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну, там не полное соответствие, потому что в ЕС 27 членов, но, допустим, один и тот же язык у Австрии и Германии и так далее. Один и тот же, по сути, язык – сербский и хорватский, хотя сербы называют его сербским, хорваты – хорватским, а боснийцы называют его боснийским. Ну, пока они еще не разошлись до такой степени, чтобы это были даже диалекты, это все-таки варианты одного и того же языка, как, например, английский американский, английский австралийский и английский британский – это варианты одного и того же языка. Но вот формально они называют «боснийский язык», «сербский язык», «хорватский язык», но это один язык.
МЕДВЕДЕВ: Ну да. Я знаю, что в международном таком дипломатическом обиходе, например, напротив, некоторые языки сходятся, есть такой усреднено-скандинавский язык, на котором между собой говорят датчане, норвежцы, шведы. Хотя они реально разведены...
ПАЛАЖЧЕНКО: Они понимают друг друга, и есть что-то такое общее. В свое время, вы знаете, может быть, была попытка создать усредненный славянский язык для общения, но это практически невозможно. Всякий, кто пытался учить или изучал польский язык, чешский язык, болгарский язык, знает, что это, в общем, непросто.
МЕДВЕДЕВ: Огромная... Я вам скажу, из языков, которые я учил, чешский самым сложным мне показался.
ПАЛАЖЧЕНКО: Я обожаю чешский. Я в институте увлекся чешским языком и стал его учить просто так, в собственное удовольствие. Чешский язык красивый, мелодичный, изумительный язык. Поэтому я читаю до сих пор по-чешски. Так получилось, что я начал интересоваться чешским языком как раз в начале 1968 года, а тут все пошло-поехало, это был очень, очень, очень интересный момент в моей жизни. Но родственные языки, тем не менее, конечно, очень и очень далеко уже разошлись.
МЕДВЕДЕВ: Чем больше языков вы знаете, тем лучше вы понимаете каждый из этих языков? Скажем, то, что вы знаете пять, шесть, семь языков, вы более совершенны в английском?
ПАЛАЖЧЕНКО: Может быть, до некоторой степени. Я вам скажу, что синхронный переводчик, который немножко владеет другими языками, он увереннее себя чувствует. Но всерьез, на мой взгляд, можно владеть двумя-тремя языками.
Если говорить о переводе, о синхронном переводе в частности, то у меня, например, в рабочем состоянии три языка для перевода с этих языков, а для перевода на иностранный язык у меня в рабочем состоянии только английский. И переводчик должен трезво отдавать себе в этом отчет. Тот факт, что я читаю итальянские газеты, тот факт, что я прочитал несколько книг на немецком языке и могу понять новости по телевидению, не значит, что я этим языком владею. «Владение языком» – это очень ответственная фраза. Я им именно владею, это мой рабочий язык. Так я говорю об английском и французском языке, и, до некоторой степени, об испанском, потому что я перевожу только с этого языка, но не на этот язык.
МЕДВЕДЕВ: Вообще, возможно ли полное двуязычие? Скажем, чтобы человек мог писать прозу или поэзию на втором?
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно, возможно, пишут же, пишут.
МЕДВЕДЕВ: Ну, немного сейчас. Я понимаю, что русские дворяне XIX века французским лучше владели.
ПАЛАЖЧЕНКО: Почему же, Набоков написал по-английски, потом перевел.
МЕДВЕДЕВ: Но их мало.
ПАЛАЖЧЕНКО: Их мало. А вот что касается текстов публицистического характера, то вполне можно. Ну, вот я книгу написал, которая вышла в Соединенных Штатах Америки в 1997 году. Естественно, я работал с редактором, и она мне сказала, что у вас написано лучше, чем у многих американских авторов, с которыми мне пришлось работать. Но я это воспринял как комплимент, конечно. Лестно, конечно, лестно.
МЕДВЕДЕВ: Но все-таки, вот, скажем, я не знаю, взялись бы вы перевести на английский Достоевского?
ПАЛАЖЧЕНКО: Я бы не взялся, а вот, скажем, Юрий Морисович Катцер, который преподавал у нас перевод на английский язык в инязе, переводил. При этом он, будучи венгерским евреем, на всех языках говорил с акцентом. На английский он перевел «Идиота», он перевел на английский язык, если не ошибаюсь, «Униженные и оскорбленные». Все это выходило в издательстве «Прогресс».
Я считаю, «Идиот», например... Ну, есть классический перевод Констанс Гарнетт, но каждое поколение делает свой перевод «Войны и мира», свой перевод «Идиота». Это великие романы. И перевод Констанс Гарнетт немножко устарел, так же, как устарели замечательные переводы Диккенса, сделанные в XIX веке. Но, повторяю, я бы не взялся.
МЕДВЕДЕВ: Ну, я в принципе говорю. Потому что я, например, считаю, что... Ну, я сомнение выражаю, насколько это должно быть исключительное владение языком, чтобы, скажем, перевести Достоевского или Пушкина на язык, нужно в этом языке родиться, владеть огромной совершенно культурной базой.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно. Я абсолютно с вами согласен, я бы не взялся. И эти переводчики, для которых русский язык является родным, и которые переводят на английский язык, на французский язык, они обычно работают в паре с другим переводчиком, для которого изначально родным является английский язык. Оба они, допустим, считаются билингвами, но билингвами с некоторым смещением в сторону того или другого языка. Но результат работы таких пар, он тоже далеко не всегда однозначный. Художественный перевод это сфера, где есть очень разные и стили, и подходы, и, главное, мнение о конечном результате.
Скажем, буквально на днях умер переводчик Милана Кундеры на английский язык, и, в конце концов, Кундера с ним поругался. Он считал, что тот переводит слишком вольно.
МЕДВЕДЕВ: Автор выражения «The Unbearable Lightness of Being».
ПАЛАЖЧЕНКО: Он автор этого выражения, и, на мой взгляд, он очень хорошо переводил, я предпочитаю... Ну, Кундера сейчас сам пишет по-французски, но если говорить о переводах, то, честно говоря, я предпочитаю переводы на английский язык. Хотя Кундера, при всей критике в адрес его любимой переводчицы Нины Шульгиной, он считает, что хорошо на русский язык переводит только она, только она.
МЕДВЕДЕВ: Ну что же, о трудностях перевода продолжим наш разговор после небольшой паузы.
Реклама.
***
МЕДВЕДЕВ: И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня с переводчиком Павлом Палажченко о трудностях перевода устного и письменного, вообще о роли перевода в нашей культуре. Перевод – это некая сервисная функция культуры, или какой-то внутренне необходимый ее механизм, некий стержневой механизм культуры?
ПАЛАЖЧЕНКО: Я думаю, и то, и другое. Но, безусловно, роль перевода как стержневого механизма культуры очень велика. В русской культуре она традиционно велика. Россия – страна во всех отношениях, так сказать, догоняющая, иногда перегоняющая в результате того, что набирает быстрый темп, догоняя. Но по отношению к Европе Россия на протяжении длительного времени в плане культуры была страной воспринимающей.
МЕДВЕДЕВ: Россия – это вообще, я абсолютно с вами согласен, я считаю, что Россия – это переводная история, собственно, начиная с нашего языка, который создали Кирилл и Мефодий, для нас адаптировали, для славян.
ПАЛАЖЧЕНКО: Они азбуку адаптировали, алфавит.
МЕДВЕДЕВ: Да.
ПАЛАЖЧЕНКО: Язык все-таки не они создавали.
МЕДВЕДЕВ: Ну, язык богослужений, если брать церковнославянский, который уже затем транслировался каким-то образом.
ПАЛАЖЧЕНКО: Нет, но еще кто создавал русский язык, современный русский язык – это Карамзин и его современники, которые придумали огромное количество слов, которые мы воспринимаем как совершенно органичные: скажем, слова «промышленность», «производство» и так далее – это же они придумали. Придумали, взяв аналоги немецких морфем, русские аналоги немецких морфем, и составив эти слова: «влияние»... Самые такие слова, «влияние» – это же...
МЕДВЕДЕВ: Einfluss.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно, конечно. Это все придумал Карамзин, его современники. Во многом Карамзин и другие. Конечно, русский язык в этом смысле создан, и мечты Солженицына о том, что можно вернуться к более старому языку (его раздражало чрезмерное влияние иностранных языков) – все-таки это утопические такие мечты.
МЕДВЕДЕВ: Влияние как раз.
ПАЛАЖЧЕНКО: Да, при всем к нему уважении. Русская культура тоже не могла жить без переводов. На уровень, когда уже нас стали переводить, и без нас не смогла европейская культура, мы вышли при Пушкине, некоторое время там оставались, и потом вплоть до Достоевского, Чехова, Толстого этого не было. Потом так получилось, что Европа почувствовала, что ей нужны русские классики, и пошел перевод в обратном направлении. И он тоже до некоторой степени для европейцев был стержневым явлением. Европа тогда воспринимала русскую культуру как нечто ей совершенно необходимое, начиная от Проспера Мериме, Флобера и других, это факт.
МЕДВЕДЕВ: Затем Чехов, который, собственно, весь XX век, всю литературу абсурда дал.
ПАЛАЖЧЕНКО: Вот именно. И, я считаю, получается так, что перевод является не каким-то сервисом, а стержневым явлением не только для России с особенностями ее истории, но и для некоторых других культур. В XXI веке, в конце XX века – пожалуй, в меньшей степени. Есть, пожалуй, не то что взаимная культурная изоляция, но меньше взаимный культурный интерес. Это приходится с сожалением констатировать. Тем не менее, для русской культуры, для российской культуры это по-прежнему важнейшая часть нашей жизни, нашей культурной эволюции.
МЕДВЕДЕВ: Ну да, потому что, я думаю, речь идет о переводе... Собственно, есть разные слова для обозначения перевода. Есть вот это латинское «translatio», а есть «traductio».
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну, есть интерпретация. Устный перевод – это называется «интерпретация».
МЕДВЕДЕВ: Да, интерпретация.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно.
МЕДВЕДЕВ: И перевод – это, собственно, некая трансляция культуры всей, в том числе и культурных форм. Скажем, я не знаю, Жуковский писал баллады. Баллады – это же переводная форма. Или, скажем, Шекспир писал сонеты. Сонеты он взял у Петрарки.
ПАЛАЖЧЕНКО: Да.
МЕДВЕДЕВ: Это опять-таки переводная форма. Так что в этом смысле, конечно, очень часто мне приходилось сталкиваться с тем, что, скажем, к переводчикам относятся как к некоему сервисному персоналу, который где-то там, на окраинах конференции работает: ну, официанты принесли что-то, переводчики перевели. Даже с таким приходилось встречаться, скажем, написано: «В составе советской делегации 15 человек и два переводчика», – вот такое. И мне кажется, что здесь абсолютное непонимание того, что механизмы перевода – они вообще дают состояться человеческой культуре.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно.
МЕДВЕДЕВ: Ничего бы не было. Вообще (я не знаю, согласитесь или нет) все практически культуры переводные, за исключением, может, Древнего Китая, Древней Индии и, я не знаю, Древней Греции.
ПАЛАЖЧЕНКО: Вы знаете, большие культуры взаимодействуют. Малые культуры иногда немножко боятся взаимодействовать, потому что опасаются, что все захлестнет. Скажем, исландский язык – это язык без заимствований. Венгерский язык – тоже язык без заимствований. Практически заимствований там нет, любое понятие, начиная от телефона, телеграфа – такие интернациональные слова, которые практически во всех языках одинаковые, но с поправками, они должны переводить на свой язык, используя морфемы, мельчайшие единицы слоговые, грубо говоря.
МЕДВЕДЕВ: Финский еще такой же.
ПАЛАЖЧЕНКО: Финский – тоже, да. Из слогов они вынуждены делать новые слова. То же самое – китайский язык, хотя это большая культура. Китайский язык в силу сложившейся традиции практически ничего не заимствует. Китайцы ставят рядом два иероглифа: «электричество» и «мозг», получается «компьютер». Исландцы ставят рядом две морфемы, два слога, и подобно Карамзину, придумавшему слово «влияние», придумывают слово для обозначения любого иностранного, инокультурного явления. Это одна сторона и одна, не скажу «крайность», но, во всяком случае, один край этого спектра.
На другом краю этого спектра японцы, которые совершено спокойно заимствуют слова, в том числе, на первый взгляд, существующие в их языке. Я как-то слушал перевод на японский язык с английского, и слышу – все время используется слово «approach». Это «approach» английское. «Неужели у вас нет слова «подход»? – Ну, есть слово, похожее слово есть. Но как-то удобнее это заимствование. Знаете, – они говорят, – в нашем языке любое заимствование, попадая в нашу среду, как-то очень быстро поглощается и становится нашим. Мы этого не боимся», – сказали японцы. И действительно, когда слушаешь японскую речь, очень часто слышишь японские слова.
Русский язык где-то посередине, и русская культура где-то посередине. Мы все время боимся заимствований, а с другой стороны, мы их делаем. Переводчики, конечно, не должны здесь бежать впереди паровоза. Но мы миримся с тем, что за нас уже это сделали другие. Как правило, это делают эксперты, специалисты, которые говорят: «Нам удобнее заимствования». Мы им говорим, социологам, например: «Ну почему же вы хотите, чтобы «identity» мы переводили как «идентичность»? Есть же такие прекрасные слова, как «самобытность», «своеобразие» и так далее». Они говорят: «Нет, нам удобнее так. Нам удобнее слово «идентичность», потому что идентичность – это не обязательно своеобразие. Она состоит как из своеобразных элементов, так и из элементов, общих для всех культур». Вот они нам так говорят – ну, мы, переводчики, в конце концов, соглашаемся и идем на заимствования. С другой стороны, русский язык – он не должен бояться заимствований, потому что очень быстро заимствования обрастают русскими волосами. Позаимствовали «PR» – и уже есть слово...
МЕДВЕДЕВ: «Пиарщик».
ПАЛАЖЧЕНКО: «Отпиарить», «пиарщик», «пропиарить» и так далее, видите? Поэтому, наверное, особенно бояться не стоит, русский язык в этом отношении довольно хорошо все перерабатывает.
МЕДВЕДЕВ: В русском есть вообще некое такое (вы, наверное, сейчас скажете, что нет), некий такой изоляционизм языковой. Я поясню. Скажем, меня очень раздражает всегда, что у нас дублируются фильмы на английский язык, что у нас нет подстрочника. Не подстрочника, а субтитров.
ПАЛАЖЧЕНКО: Вы имеете в виду субтитры иностранных фильмов?
МЕДВЕДЕВ: Да, субтитры иностранных фильмов. Мне кажется, будь у нас субтитры, культура языковой грамотности...
ПАЛАЖЧЕНКО: Я сторонник субтитров, конечно.
МЕДВЕДЕВ: ...Населения, скажем, то, что происходит в Скандинавии, в Голландии, где просто все дети к 15 годам уже бегло говорят по-английски, потому что они все фильмы смотрят с субтитрами.
ПАЛАЖЧЕНКО: Самое главное – телевидение, они сериалы смотрят.
МЕДВЕДЕВ: И сериалы, да.
ПАЛАЖЧЕНКО: Это важнее даже, чем фильмы, потому что в кино редко выбираются люди, и DVD редко ставят. Вы знаете, тут сложно. Есть культуры, в которых зрители предпочитают субтитры, и есть культуры и страны, где зрители предпочитают дубляж. В Германии предпочитают дубляж, в Швейцарии один сеанс идет дубляж, другой сеанс идут субтитры.
Это решаем не мы с вами, это решают прокатчики. И прокатчики наши пришли к выводу, что в Москве достаточно пяти-шести театров, где идут фильмы с субтитрами. Все остальное, все голливудские блокбастеры – «Аватар», все это, «Титаник» и так далее – прокатчики нам говорят, что нужен дубляж, русский зритель привык к дубляжу.
Я, конечно, с удовольствием хожу в «Пять Звезд», хожу в «35ММ», смотрю там фильмы без дубляжа, с субтитрами (мне это очень нравится), критикую эти субтитры, потому что, к сожалению, многие прокатные организации отдают это неквалифицированным переводчикам. С другой стороны, есть и замечательные примеры, очень хороший дубляж «Секса в одном городе».
МЕДВЕДЕВ: «В большом городе».
ПАЛАЖЧЕНКО: «В большом городе». Очень неплохой дубляж, очень приличный дубляж, и по интонации, а главное – сам перевод неплохой.
МЕДВЕДЕВ: Мне кажется, это да, это может быть, но при этом все-таки теряется огромная эстетическая вселенная...
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно.
МЕДВЕДЕВ: ...Потому что те голоса артистов, которые соответствуют их облику – это отдельная музыка.
ПАЛАЖЧЕНКО: Да. Я наши эти стандартные дубляжные голоса и интонации, честно вам скажу, недолюбливаю.
МЕДВЕДЕВ: Конечно.
ПАЛАЖЧЕНКО: Потому что какие-то интонации, которые, наверное, все-таки больше в последние 20-25 лет. Я вспоминаю фильмы, которые дублировал... Скажем, когда Белявский дублировал Мастроянни – здорово у него это получалось, у него не было искусственных интонаций, не было.
***
МЕДВЕДЕВ: Ну да. Вы знаете, я не соглашусь, что это как бы люди так хотят. Мне кажется, что есть такой очень большой культурный и в итоге политический запрос на то, чтобы был дубляж и не было иностранных символов, не было иностранной речи и иностранной графики.
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну, не знаю. Так нам говорят прокатчики. Кстати, для переводчиков все равно.
МЕДВЕДЕВ: Да.
ПАЛАЖЧЕНКО: Переводчик готовит, и субтитры делает, и делает текст для дубляжа. Правда, при подготовке текста для дубляжа еще редактор активно работает, потому что надо еще соотнести это с движением губ ситуативным и так далее. Субтитры в этом отношении немножко проще.
МЕДВЕДЕВ: Проще.
ПАЛАЖЧЕНКО: Но это позиция прокатчиков, прокатчики считают, что на «Аватар», скажем, или на «Титаник», или на «Пиратов Карибского моря», если это будут субтитры, массовый зритель не пойдет. Ну, считают так.
МЕДВЕДЕВ: Ну понятно. Но кажется, надо менять культуру. Скажем, почему это в Германии? В Германии потому, что все это, скажем, (Неразборчиво.), культ (Неразборчиво.), во Франции – потому что la belle Франция, и вообще они до сих пор страдают, что французский перестал быть главным международным языком.
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну подождите, во Франции фильмы показывают и в дубляже, и с субтитрами. И так, и так показывают.
МЕДВЕДЕВ: Там нет разве такого культа дубляжа...
ПАЛАЖЧЕНКО: Культа нет, хотя блокбастеры дублируют.
МЕДВЕДЕВ: ...И вообще неприятия английского?
ПАЛАЖЧЕНКО: Нет, блокбастеры, как правило, дублируют. А зайдите в любой кинотеатр – значительная часть фильмов английских, американских, немецкие фильмы там показывают. Там модны сейчас, во Франции, фильмы иранские, израильские, из этих всех стран. Все они идут с субтитрами.
МЕДВЕДЕВ: Они идут с субтитрами?
ПАЛАЖЧЕНКО: С субтитрами, да.
МЕДВЕДЕВ: Если говорить об английском, вы знаете, меня всегда очень интриговал вопрос, когда... Я думаю, многие наши слушатели, которые переводили письменные тексты с русского на английский, английские на русский, всегда замечают гораздо большую емкость английского языка.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно.
МЕДВЕДЕВ: На 25%, по-моему, он более емкий.
ПАЛАЖЧЕНКО: 15-20% при переводе с английского языка на русский – это допускаемое увеличение текста.
МЕДВЕДЕВ: Чем объяснить? Я общался со знакомыми переводчиками-синхронистами, они, в частности, выдвигали теорию, что английский вообще как язык более развит, чем русский. У них более была длительная лингвистическая, так скажем, история, социальная история английского языка. У них была больше общественная жизнь, они выражали более емкие понятия. Грубо говоря, английская литература старше русской литературы. И собственно, в результате своего исторического развития английский стал более емким, экспрессивным и универсальным.
ПАЛАЖЧЕНКО: Вы знаете, что считать развитием. Английский язык потерял всю свою глагольную флексию полностью, потерял все падежи, которые были – он все потерял. Значит, это не развитие, а это, наоборот, казалось бы, упрощение.
МЕДВЕДЕВ: Упрощение, особенно в американском варианте.
ПАЛАЖЧЕНКО: Английский язык – аналитический. Русский язык – синтетический. Английский язык состоит из коротких слов, русский язык состоит из длинных слов с приставками, суффиксами и окончаниями. Поэтому в русском языке огромное количество слов, которые выражают понятия, выражаемые на английском языке целыми комбинациями, а иногда целыми предложениями. И если говорить о развитости языка, то кто-то может сказать, что наличие таких русских слов, которые впитывают в себя много смысла – это как раз признак большей развитости.
Я бы не стал говорить о большей или меньшей развитости языков, но то, что есть отличия языков, связанное и с тем, как складывалась культура страны – это безусловно, никаких тут сомнений нет. Английский язык является более сжатым, более короткие слова, он лаконичен. Английский язык более имплицитен, в нем больше в подтексте, чем в русском языке.
Русский язык и, кстати, немецкий язык тоже. Хотя немецкий язык очень близок к английскому языку по происхождению (английский язык развился из древневерхненемецкого языка), немецкий язык тоже все практически или очень многое выражает непосредственно, без подтекста, без затекста. В английском языке очень много в затексте. Немецкий язык, немецкий перевод английского текста тоже на 10-15%, а иногда на 20% длиннее. Но кто решится сказать, что немецкий язык менее развит, чем английский? Так что нет, я бы насчет развитости не согласился.
Но английский язык, повторяю, более лаконичен, более метафоричен, в нем другая сетка пространства и времени. Английский язык очень, очень временной и пространственный, он это выражает грамматическими категориями, в то время как русский язык все это выражает, как правило, лексически. Ну, дальше уже идет лингвистика: английский язык – очень модальный язык, все это выражено сеткой модальных глаголов, в то время как русский язык все это выражает опять-таки лексически, причем очень богато.
Вот когда Набоков наконец взялся с сыном переводить «Лолиту», которую он написал по-английски, он (как он потом писал) убедился в том, что оба эти языка ему близки и дороги, и оба великолепные, замечательные, изумительные, как он написал, языки. Но дальше он констатировал целый ряд различий, которые, как он сказал, сводятся, в общем, к тому, что русский язык лучше приспособлен для передачи тончайших движений человеческой души, дуновений ветерка и так далее, а английский язык – для описания науки, техники, спорта, а также, как он написал: «Естественных и противоестественных чувств».
МЕДВЕДЕВ: Как сказали бы немцы...
ПАЛАЖЧЕНКО: «Естественных и противоестественных склонностей», по-моему, он сказал. Ну, ясно, что он имел в виду. Понимаете, красивые языки оба, конечно. Два очень красивых языка со своими достоинствами, и я бы не стал их друг другу противопоставлять. Своя красота есть, конечно, и во французском языке. А есть такие языки, красивые и мелодичные, которые нравятся буквально всем (как, скажем, итальянский и чешский), но это уже особая статья. Ну, у них просто свои достоинства.
МЕДВЕДЕВ: Как английский и русский. Я думаю, немцы бы... У них это очень четко прописано, это различие цивилизации и культуры.
ПАЛАЖЧЕНКО: Конечно
МЕДВЕДЕВ: Что английский – язык цивилизации, а русский – это язык культуры.
ПАЛАЖЧЕНКО: Может быть, и так. Я бы сказал, что английский язык – это язык нации очень деятельной, нации, которая на небольшом пространстве создалась и которая потом очень активно расширялась в пространстве, развивалась во времени. Русский язык – это язык народа, которому даны эти бескрайние, так сказать, просторы, с одной стороны, и который поэтому в языковых средствах не очень экономен.
И язык, я бы сказал, все-таки, наверное, более эмоциональный, во всяком случае, и более чувственный такой, я бы сказал, по тому, как много можно заключить иногда в одном слове. Скажем (я часто привожу этот пример), в начале одного из рассказов Куприна есть такая фраза: «Встают разоспавшиеся курсанты». Что такое «разоспавшиеся»? Конечно, одним словом это ни в одном языке невозможно выразить.
Или, например, русский язык в силу уже культурной своей эволюции очень много содержит отрицаний. В русском языке выражается через простое отрицание, с использованием частички «не», огромное количество слов и понятий, причем далеко не всегда отрицательных. Иногда как раз для того, чтобы скрыть отрицание, используется «не». Ни на один европейский язык невозможно хорошо перевести такую фразу: «Открылась дверь и вошел невысокий молодой человек». Я это всех прошу, на славянские языки это можно перевести, не на все. А на другие языки невозможно, потому что – что такое «невысокий»? «Он что, маленького роста?» – они спрашивают.
МЕДВЕДЕВ: «Short» на английский только перевести.
ПАЛАЖЧЕНКО: «Short» – это не то, ничего подобного.
МЕДВЕДЕВ: Не то, да.
ПАЛАЖЧЕНКО: Мы говорим «невысокий»...
МЕДВЕДЕВ: Не маркируя, мы как бы...
ПАЛАЖЧЕНКО: ...Именно для того, чтобы показать, что рост его ниже 1 метра 65, но мы это говорить не хотим.
МЕДВЕДЕВ: Да-да-да.
ПАЛАЖЧЕНКО: Обратите внимание, что мы никогда не говорим «невысокая девушка». Девушка у нас или «миниатюрная», или даже «маленькая» не будет звучать плохо.
МЕДВЕДЕВ: Это эвфемистичность.
ПАЛАЖЧЕНКО: А «маленький мужчина» мы сказать не можем, понимаете?
МЕДВЕДЕВ: Суггестивность такая, эвфемистичность языка.
ПАЛАЖЧЕНКО: Вот именно. И когда мы говорим: «Не скажете, сколько времени?» – это не только результат крепостного права и подчиненности среднего человека в России на протяжении всей истории, а это элемент такой вежливости. И это стандартная, конечно, ошибка при переводе на европейские языки, когда это переносят: «Не скажете?»
МЕДВЕДЕВ: Да-да-да.
ПАЛАЖЧЕНКО: «Вы не знаете, где живет такой-то?» На английский дословно переводят, и получается: «Разве вы не знаете, где такой-то живет?»
МЕДВЕДЕВ: Поразил анекдот советских времен: «Скажите, у вас нет рыбы? – Нет, у нас нет мяса. Рыбы нет в магазине напротив».
ПАЛАЖЧЕНКО: Да-да-да. И «нет», вот этот вопрос через отрицание, именно потому, что исторически русский человек в своем подчиненном положении – власти, помещику, коммунистической партии и так далее – он, в общем, не очень ждет положительного ответа. Поэтому задается вопрос вот так: «У вас нет того-то? Вы не скажете? Не знаете?»
МЕДВЕДЕВ: Не скажу.
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну да, «Не скажу». Если вам ответят положительно, это большой праздник, это успех. Так что язык своеобразный, и через отрицание выражается огромное количество понятий, при этом отрицание очень простое, всегда через «не». У нас еще есть отрицание, выражающееся через «без», но это уже, как правило, более эмоциональные слова: «безрассудный», «безответственный». Безответственный – это же не просто не ответственный, это нечто большее. Вот так сложился русский язык. Кто-то скажет, что уж слишком много отрицаний, и так далее. Нет, в этом тоже есть своя красота. Тем более, когда в это углубишься и поймешь, почему у нас это так.
МЕДВЕДЕВ: У нас буквально минута в эфире осталась. Последний вопрос, я думаю, имея в виду то, что мы говорили в течение последнего получаса о русском языке. Вы, наверное, скептически смотрите на возможность машинного перевода?
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну, скептически, конечно. Потому что пробовали разные подходы. Все эти подходы путем создания алгоритмов, сейчас так называемый статистический подход, который в «Google» используется, на основе сопоставления больших массивов текстов – все эти подходы результата не дают. При этом, что интересно, не происходит улучшение качества.
Сама идея машинного перевода «Google», так называемого статистического перевода, состоит в том, что чем больше вы сопоставляете текстов, являющихся переводами, чем больше вы их в эти алгоритмы, в эти базы данных заносите, тем лучше со временем будет перевод.
МЕДВЕДЕВ: Тем больше вариантов. Ну, как с шахматами, так сказать.
ПАЛАЖЧЕНКО: Ну как, нет. Тем больше вариантов. А наоборот, тем больше происходит нарабатывание тех переводов, которые, грубо говоря, являются правильными.
МЕДВЕДЕВ: Нет, статистически от количества заложенных алгоритмов.
ПАЛАЖЧЕНКО: Нет, они закладывают не алгоритмы. Они тексты закладывают.
МЕДВЕДЕВ: Извините, от количества заложенных вариантов, я имел в виду, текстов.
ПАЛАЖЧЕНКО: Да.
МЕДВЕДЕВ: То же самое с шахматами: чем больше ты заложил в программу возможных вариантов партий, тем более совершенен алгоритм.
ПАЛАЖЧЕНКО: А там нет алгоритма. Дело в том, что нисходящего или восходящего алгоритма, как при генеративной лингвистике, у них нет. Просто на основе сопоставления машина (компьютер, гигантский компьютер) отбирает то, что, как говорится, выдерживает испытание временем. Там у них есть какие-то абсолютно секретные вещи, но самое интересное, что, несмотря на все это, качество перевода «Google» не улучшается.
МЕДВЕДЕВ: Ну да.
ПАЛАЖЧЕНКО: Если бы оно улучшалось, ну хоть чуть-чуть, скажем, за те три-четыре-пять лет, что существует перевод «Google», то это было бы колоссальным шагом вперед. Пока оно не улучшается, хотя люди работают.
МЕДВЕДЕВ: По своему спаму точно могу сказать, нигерийские письма счастья, типа: «Я и миссис Маккубу, жена позднего какого-нибудь Эдуарда Маккубу», – и так далее.
ПАЛАЖЧЕНКО: Да-да-да, улучшения не видно.
МЕДВЕДЕВ: Да, улучшения не видно.
ПАЛАЖЧЕНКО: Пока нет.
МЕДВЕДЕВ: Ну что ж, я думаю, это скорее пессимистично, как в русской культуре, мы апофатически говорим о вещах, через отрицание.
ПАЛАЖЧЕНКО: Нет, это очень оптимистично. Потому что это означает, что так же, как герой Зощенко, который играл на этом треугольничке, боялся за свою профессию...
МЕДВЕДЕВ: Да-да-да.
ПАЛАЖЧЕНКО: ...Профессия не умерла, и мы это видим на любом симфоническом концерте. Так же и профессия переводчиков не умрет тоже.
МЕДВЕДЕВ: Вот на этом пессимистичном с точки зрения машины, но оптимистичном с точки зрения человека выводе я хотел бы закончить. И, так сказать, передо мной сидит живое подтверждение того, что профессия переводчика – это внутреннее имманентное состояние культуры, не сервис культуры, а некая, так сказать, очень важная функция культуры. И, собственно, любите переводчиков, слушайте программу «Археология».
Это была программа «Археология». У нас в гостях был Павел Палажченко, переводчик, работавший, в том числе, с лидерами нашего государства. Я – ваш верный археолог Сергей Медведев, за пультом – Иван Куприянов, продюсер программы – Дина Турбовская. Доброй ночи и удачи.
strong
- Войдите на сайт для отправки комментариев


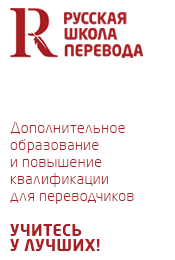




Super site
Super article, génial !