Интервью М.С. Горбачева
В конце прошлого года по просьбе составителя и редактора сборника об А.Д.Сахарове я взял интервью у Горбачева. Сборник на днях выходит в издательстве РГГУ, и теперь текст интервью можно выложить на сайт. Что я и делаю.
П.П. Когда Вы впервые услышали о Сахарове? Как Вы познакомились с его мнениями – читая его статьи, книги, через изложение в западной печати, в материалах КГБ, через чьи-то пересказы и т.п.? Какова была Ваша реакция? Было ли что-то созвучное Вашим собственным размышлениям?
М.С. Я услышал об Андрее Дмитриевиче Сахарове тогда же, когда и большинство советских граждан – во второй половине 1960-х годов. Конечно, в печати его имя не упоминалось, его высказывания замалчивались, но его мнение становилось известно. Я узнавал его, так сказать, в изложении, в передаче других людей. Говорили о том, что это выдающийся ученый, один из создателей нашего ядерного щита, обсуждали его мысли и высказывания. И я бы сказал, что многие из этих мыслей уже тогда были довольно широко распространены в обществе. Стремление к более демократическим, свободным формам жизни, требования перемен тогда еще не достигли такого накала, как в начале в 80-х годов, но люди задумывались, сомнения и вопросы возникали постоянно.
Потом в нашей печати стали появляться разоблачительные статьи о Сахарове, но они не давали представления о действительном содержании его статей и интервью. Мне хотелось больше узнать об этом человеке, и представившийся случай дал мне такую возможность.
Это было летом, теперь уже не помню точно год, когда в Кисловодске отдыхал академик П.Л. Капица – человек авторитетный и даже легендарный. Возможность познакомиться и поговорить с ним была для меня важной. Мы говорили о многом, и в том числе об академике Сахарове. Я спросил, что происходит, почему у Сахарова возникли проблемы. Капица ответил, что большие проблемы у Сахарова возникли из-за его письма в ЦК КПСС. Я отметил про себя, что, хотя сам являюсь членом ЦК, письмо я не читал, нам о нем даже не сообщили. Из рассказа Капицы я понял, что в этом письме речь идет о демократизации, о мирном сосуществовании и конвергенции систем, о необходимости уменьшения военных расходов. Это было предостережение человека, который создавал оружие чудовищной силы, думал о последствиях этого и пришел к выводу, что надо менять отношения СССР и США. С этого все началось.
Капица говорил о заслугах Сахарова в науке и обороне, о том, что засекреченность мучает его, что человек хочет высказаться, но наталкивается на невнимательное отношение к себе. Действительно, письмом занимались чиновники ЦК, и далеко не самые прогрессивно мыслящие, ну и, конечно, КГБ. С Сахаровым даже нормально не поговорили. Наверняка идеологические начальники, М.А. Суслов, считали, что Сахаров лезет не в свое дело.
Что было потом, известно: Сахаров резко высказался по поводу ввода советских войск в Афганистан, и это послужило основанием для его высылки из Москвы в Горький. Что тут сказать? Я вспоминаю, как я сам реагировал на эту военную акцию. Я отдыхал тогда на юге, там же был Эдуард Шеварднадзе, и оба мы были, мягко говоря, удивлены тем, что было сделано и как это было сделано. Даже многих членов политбюро не спросили и не проинформировали. И мы уже понимали, что это – признак тяжелой болезни системы. И, по крайней мере, в данном конкретном случае возникла мысль: «Так дальше жить нельзя». Потом она только усиливалась.
П.П. Как Вы пришли к мысли о необходимости дать возможность Сахарову вернуться из Горького в Москву? Было ли это решение кем-то «подсказано»? Трудно ли было провести его через политбюро?
М.С. Точно могу сказать, что это решение не было кем-то подсказано, хотя имя Сахарова иногда упоминалось в моем кругу. Решение о высылке Сахарова из Москвы – а, по сути, о лишении его свободы – мне казалось несправедливым, незаслуженным, к тому же принятым келейно. Я знал, какую реакцию оно вызвало в Академии Наук, среди интеллигенции, вообще у многих людей. Конечно, надо было прекратить эту несправедливость. Но я все-таки попросил дать мне досье, чтобы посмотреть, как обосновывалось это решение. И через несколько дней мне доложили, что никакого «досье», собственно, нет и, стало быть, никакого обоснования тоже нет. Приняли это решение «на ходу», без серьезного анализа. Меня это поразило. И я поставил вопрос на Политбюро – потому что надо было принять правильное решение, и принять его подобающим образом.
Никакого сопротивления со стороны других членов Политбюро не было. Более того, как мне показалось, они искренне высказались за то, чтобы Сахаров смог вернуться в Москву, приступить к работе, жить нормально, без ограничений. Единственный вопрос, который вызвал дискуссию – как это «организовать», как объявить и так далее.
П.П. Как возникло решение позвонить Сахарову и лично сообщить ему о принятом решении?
М.С. Я считал, что так будет правильно. Но в ходе разговора на Политбюро обсуждались и другие варианты – например, поручить президенту Академии Наук сообщить об этом Андрею Дмитриевичу. Но когда я сказал, что будет правильнее мне самому позвонить ему в Горький, сообщить о решении, поговорить, то все поддержали. Кстати, потребовалось какое-то время, чтобы связисты КГБ установили связь, но разговор состоялся, и он мне запомнился.
Андрей Дмитриевич был очень взволнован, даже возбужден, его переполняло то, что он обязательно мне хотел сказать, и я должен был его сначала как-то успокоить, чтобы сказать главное: Политбюро приняло решение о том, что он может возвращаться в Москву. Я сказал: у вас есть квартира, работа, и я уверен, что вы сможете нормально работать, заниматься всеми делами. Сахаров выслушал и сразу же стал говорить о том, что не давало ему покоя: «Михаил Сергеевич, я прошу вас отпустить узников совести, которые находятся сейчас заключении». Он приводил факты, называл имена, торопился, и мне, откровенно говоря, было трудно продолжать разговор на таких эмоциях, хотя стремление Андрея Дмитриевича помочь конкретным людям не могло не вызвать уважения. Я сказал ему, что в этих делах мы будем безотлагательно разбираться, и у меня действительно было такое намерение: в стране, где происходят перемены, расширяется гласность, люди не должны сидеть в тюрьме за свои взгляды, за выражение своего мнения. А для Сахарова главное было, чтобы это дело не заволокитили, поэтому он так нажимал.
П.П. Рассчитывали ли Вы на сотрудничество с Сахаровым, его поддержку в делах перестройки? В какой мере можно сказать, что Сахаров был Вашим сторонником, или он все-таки тяготел скорее к «непримиримой оппозиции»?
М.С. Я не говорил с ним о поддержке, но я, безусловно, был уверен, что такой человек должен быть включен в происходящий процесс. И это произошло. В те годы все менялось очень быстро, и то, что Андрей Дмитриевич действительно «включился» очень быстро, никого не удивило. Это было частью перестройки, частью тех перемен, которые раньше казались немыслимыми, а теперь шли быстрее, чем он предполагал даже в самых смелых своих статьях и предложениях: появилась гласность, свобода слова, свободные выборы, решались волновавшие Сахарова проблемы разоружения, экологии.
Стали создаваться неправительственные организации. Мы встретились с ним на конференции одной из таких новых организаций – Фонда за выживание и развитие человечества. Поздоровались, и Сахаров сразу стал говорить о людях, еще остававшихся в заключении по обвинениям политического характера. Надо сказать, что у него были основания для беспокойства, потому что КГБ требовал от большинства из них заявления с просьбой об освобождении, а люди были уверены, что с ними поступили несправедливо и не хотели подписывать такие просьбы. Но, как вы знаете, вскоре все эти люди вышли на свободу.
Когда Сахаров был избран на Съезд народных депутатов, у него появилась возможность и на заседаниях съезда, и в средствах массовой информации высказывать свою позицию по всем вопросам. Он предложил свой проект конституции «Союза Советских Республик Европы и Азии». В нем было много интересного, мысли и предложения Сахарова шли в русле того, что мы тогда делали. И поэтому я считал его союзником. Его формулировка тогда была такова: я поддерживаю Горбачева, но не безоговорочно. Но я и не просил о безоговорочной поддержке. И я был признателен за такую позицию Сахарова.
Андрею Дмитриевичу, видимо, много обо мне говорили разного, нашептывали. В этой связи вспоминается такой эпизод. После заседаний Съезда я часто подолгу оставался в здании, готовился к следующему дню иногда чуть ли не до полуночи. В один из таких дней, когда я выходил через зал заседаний, я увидел недалеко от сцены, где размещался президиум, Андрея Дмитриевича. Он после заседания все это время дожидался меня, а мне об этом мои люди не доложили (таков аппарат!), за что я их отругал. Он сказал мне, что хочет поговорить. Я спросил его, как ему съезд, согласен ли он, что «процесс идет» и набирает силу. Он согласился. О чем вы хотите поговорить, спросил я. Андрей Дмитриевич сказал, что его тревожит то, что он слышал: оказывается, говорят, что на меня можно давить, использовать против меня какие-то факты коррупции, связанные с моей деятельностью на Северном Кавказе. Я ответил: «Андрей Дмитриевич, вы можете спать спокойно, ничего подобного Горбачев никогда не делал». По его реакции я понял, что он отнесся к моим словам с доверием.
Сложности возникали еще потому, что Андрей Дмитриевич как депутат претендовал на особое отношение к себе. Конечно, для этого у него были основания, но я как председательствующий должен был учитывать и другие мнения. Андрей Дмитриевич часто становился в очередь у микрофона. Просил слова. Я говорил ему, что слово будет ему предоставлено, и обычно он выступал. В один из дней, когда подавляющее большинство депутатов требовало закрытия прений, он настаивал, чтобы ему дали слово, и я, вопреки мнению большинства, дал слово на пять минут. Но прошло десять минут. Он продолжает выступать, депутаты и президиум недовольны, он продолжает, несмотря на мои обращения к нему. В конце концов я сказал: «Выключите микрофон». Много было на этот счет разговоров, но думаю, это был не более чем эпизод. Я продолжал рассматривать Сахарова как союзника по перестройке.
П.П. Что в мыслях и высказываниях Сахарова до перестройки и во время ее кажется Вам актуальным, не утратившим значения?
М.С. Думаю, прежде всего, общая демократическая направленность его мыслей. Конечно, во второй половине 80-х годов, и даже раньше, этот демократический вектор имел поддержку большинства политически активной части нашего общества. Но приходится признать, что сейчас положение изменилось, и многие, кто прежде поддерживал демократию или называл себя демократом, говорят, что России нужна твердая рука, что можно авторитарными методами провести модернизацию экономики и технологий. По-моему, Сахарову такая позиция была бы абсолютно чужда. Все-таки на первое место он ставил человека – и права и свободы человека вообще, и судьбу отдельного человека. Это очень важно, это во многом было проигнорировано в последующие годы, и сейчас нам надо снова к этому поворачиваться.
Думаю, очень важны суждения Сахарова о разоружении, решении глобальных проблем человечества – энергетической, экологической. Причем он понимал, что путь к этому сложный. Нужно не просто ядерное разоружение, а демилитаризация мышления и политики. Я в последнее время много об этом думаю и пишу – надо избавляться от милитаристского наследия ХХ века.
Андрей Дмитриевич оставил очень серьезные размышления об энергетической проблеме, о роли ядерной энергии, которая ему представлялась промежуточной. Это очень актуально сегодня, когда осознана необходимость идти к «низкоуглеродной» экономике, но полностью заменить ископаемое топливо в обозримой перспективе не получается. Поэтому, видимо, придется заняться развитием безопасной ядерной энергии, как и предлагал Сахаров.
П.П. Может быть, самый трудный вопрос: как, по Вашему предположению, отнесся бы Сахаров к событиям последующего периода, если бы прожил дольше: к распаду Союза, расстрелу парламента, тяжелым последствиям для большинства людей обвальных реформ 90-х годов?
М.С. Действительно трудный вопрос. Я не хотел бы «выстраивать сценарии». Но думаю, что его роль была бы позитивной. Думаю, он был бы против раскола в демократическом движении, который усилился в 1990-1991 году. Были люди, которые его намеренно обостряли, но Сахаров, как мне кажется, его не хотел.
Не знаю, какова была бы его непосредственная реакция на распад Союза, но уверен: он тяжело переживал бы его последствия для людей. Ведь практически повсюду это привело к массовым нарушениям прав граждан. Права человека были для Сахарова не лозунгом. Но именно в этой области последствия во многих республиках очень тяжелые. И конечно, я не могу представить себе, чтобы Андрей Дмитриевич аплодировал расстрелу парламента в октябре 1993 года. Надо исходить из того, что Сахаров занимал нравственную позицию. Таким он мне запомнился.
- Войдите на сайт для отправки комментариев


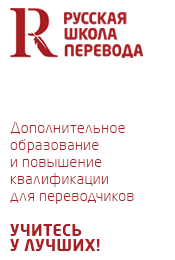




Последние комментарии
5 лет 34 недели назад
5 лет 44 недели назад
6 лет 22 недели назад
6 лет 41 неделя назад
7 лет 1 неделя назад
8 лет 26 недель назад
8 лет 26 недель назад
8 лет 48 недель назад
8 лет 48 недель назад
9 лет 7 недель назад